«Work and Travel» для техникумов, поддержка волонтеров и «Второй шанс» для осужденных — анонсированы новые льготы для молодежи
22:28 / 24.02.2026
Как мошенники обманывают людей в Узбекистане: схемы и советы экспертов
21:00 / 24.02.2026
По факту массового отравления детей в Фергане возбудили уголовное дело
17:30 / 24.02.2026
Бывший президент Южной Кореи обжалует пожизненный срок за объявление военного положения
16:41 / 24.02.2026
Курс валют в Узбекистане на 25 февраля
16:30 / 24.02.2026
Рекомендации
Меню
Хорошие новости:
Теги
Развивайте свой бизнес вместе с нами
Размещайте рекламу на Daryo.uzИндивидуальный подход и эксклюзивные материалы
Чтение сайта без рекламыПодписаться
25 000 сум в месяц

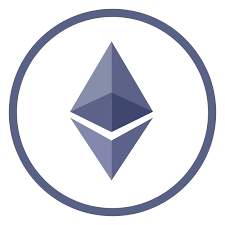



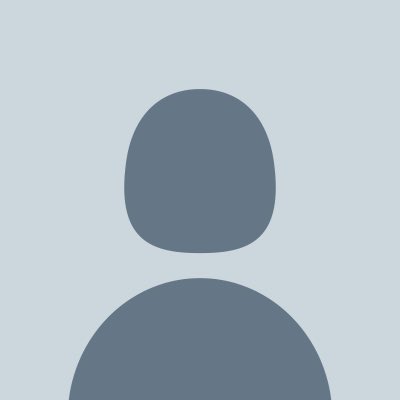
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, сначала